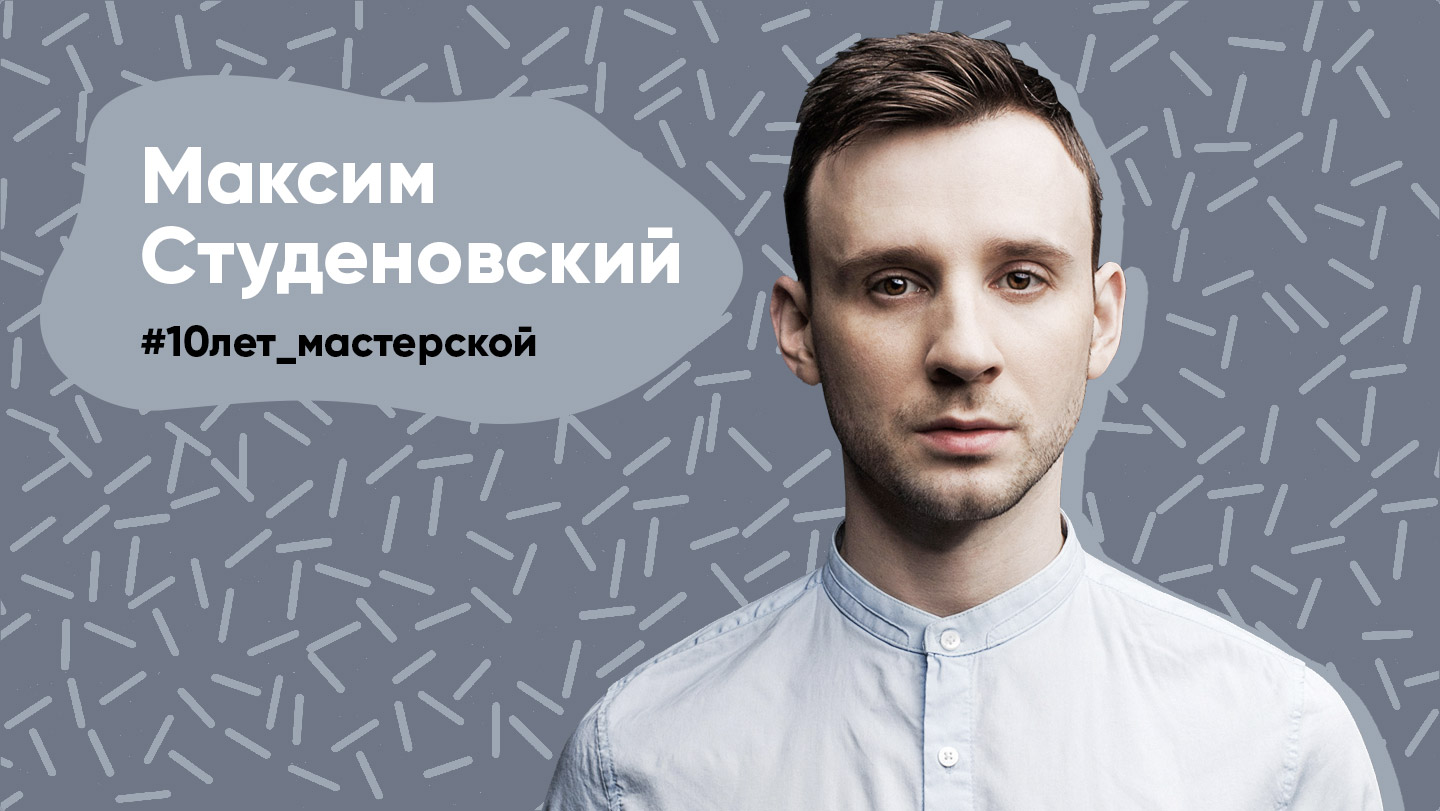Максим Студеновский: Буду честен (смеётся). У меня действительно было неоконченное высшее образование: на тот момент я закончил три курса Военмеха по очень серьёзной специальности «Авиа- и ракетостроение». До сих пор многие недоумевают, зачем нужно было менять такую серьёзную и прибыльную профессию на театральное дело. Объяснить это очень сложно. Наверное, дело в том, что принято называть «зовом сердца»: я на сто процентов был уверен в том, что хочу быть артистом, и никто не мог меня переубедить. Хотя никаких предпосылок к этому не было: я, конечно, занимался в театральной студии, как и многие дети, да и моя мама в своё время закончила театральное училище в Днепропетровске… Но во мне это никакого отклика не находило, и до поры - до времени ничего не предвещало беды (смеётся). А в один день я приехал в свой родной Военмех, прошёлся по коридору – там у нас ещё были такие унылые серые стены – и вдруг ощутил, как будто бы меня буквально сдавливает! Я понял, что больше не могу здесь находиться, что мне в этом месте нечем дышать. И вскоре я действительно перестал появляться в Военмехе, стал готовиться к поступлению в Театральную академию, дошёл до третьего тура у Семёна Яковлевича Спивака и в результате… не поступил. А любой человек, который не поступил в Театральную академию, понимает, что это – трагедия, равносильная самоубийству: ты вообще не понимаешь, что дальше делать и как жить. Впрочем, спустя некоторое время я всё-таки начал приходить в себя, устроился на работу и с пользой провёл год. В Военмех я, конечно, не желал возвращаться ни за какие коврижки. И спасибо большое моим родителям, которые поверили в мою мечту и поддержали меня на этом непростом этапе…
КД: А как ты в результате оказался на курсе у Козлова? Это было уже на следующий год после неудачного поступления к Спиваку, я правильно понимаю?
МС: К моему огромному стыду, я ничего не знал о Григории Михайловиче на момент поступления. Но в своё оправдание могу сказать, что на каком-то подсознательном уровне я чувствовал своего мастера. У меня был один роковой случай Московском вокзале – это было уже через год после того, как я не поступил на курс к Спиваку. В тот год в Петербурге актёрский курс набирал Григорий Михайлович Козлов, а в Москве, во ВГИКе, – Владимир Александрович Грамматиков. Я поступал к ним обоим параллельно, и к обоим прошёл на третий тур. И вот я стою с сумкой на Московском вокзале, чтобы ехать на третий тур к Грамматикову, и всё ищу хоть какую-то причину, чтобы остаться в Петербурге, чтобы не уезжать в Москву… Почему-то меня совсем туда не тянуло. Я бродил взад-вперёд по вестибюлю, то и дело подходил к кассам, интересовался, остались ли билеты на ближайший поезд в Москву – и всё надеялся, что билетов нет… И в какой-то момент меня просто «перещёлкнуло»: я развернулся и решительным шагом направился к выходу из здания вокзала, чтобы на следующий день пойти на третий тур к Григорию Михайловичу. У меня было абсолютно легко на сердце, и я ни разу не сомневался в правильности своего решения. Что это было, если не очередной «зов сердца», я не знаю.
КД: Ты мог бы как-то охарактеризовать его педагогический метод? Как он вас учил, как готовил артистов?
МС: В первые годы обучения нас довольно строго воспитывали. И это было круто, потому что возникало ощущение важности актёрской профессии. Всё было очень серьёзно, а в каком-то смысле даже по-армейски. Мы часто можем слышать, что актёру, как солдату, требуется железная дисциплина – и такая дисциплина в полной мере присутствовала у нас на курсе. Мы очень мало спали, у нас постоянно работала голова, мы двигались от одного этюда к другому, генерировали идеи, сочиняли зачины… Лично мне очень помогало расстояние, которое я преодолевал, чтобы добраться от дома до места учёбы: каждое утро мы с Арсением Семёновым ездили в Петербург из Кронштадта, тратили на дорогу часа два, а то и больше, и в это время у нас рождались самые крутые идеи, которые потом претворялись в жизнь. Мы могли репетировать прямо в маршрутке, обсуждать свои роли, доучивать текст… Если бы не это расстояние, мы бы просто-напросто многого не успевали. Времени было в обрез, и это было исключительно правильно. Мне кажется, что у студента актёрского курса вообще не может быть много свободного времени: даже если ты где-то отдыхаешь, ты должен наблюдать за людьми, думать о своих ролях, быть сконцентрированным… В общем, воспитывались мы в строгости, а Григория Михайловича даже боялись! Я помню, как на первом курсе не успел подготовить этюд на заданную тему, и, когда Григорий Михайлович назвал мою фамилию, у меня пересохло во рту, вспотели ладони… Было ощущение, что меня прямо сейчас прилюдно отчислят! У нас действительно с первого курса отчислили нескольких человек, так что страх был вполне разумный. Первые полгода мне вообще приходилось на курсе нелегко: я совсем не понимал, что делать, как себя вести, как выходить на сцену… И я думаю, что мог бы в таком потерянном состоянии и остаться, если бы не та строгость, в которой нас воспитывали: меня просто выпихнули на площадку, и я перестал бояться и начал работать.
КД: А о том, что ты будешь Мышкиным в «Идиоте», ты узнал тогда же, на первом курсе?
МС: Нет. Наверное, это произошло на первом спектакле (смеётся).
КД: Что, серьёзно?
МС: Абсолютно. Знаешь, у меня вообще особая история отношений с этим персонажем. Во время работы над «Идиотом» я очень сомневался, что в конце концов сыграю Мышкина. Когда я смотрел, как репетирует Женя Шумейко, я понимал, что он – Мышкин, и что он эту роль наверняка сыграет. А на свой счёт я не был так уверен. Премьерных спектакля у нас было только два, и в них роль Мышкина играли Женя Шумейко и Женя Перевалов. А я «пролетел», потому что, во-первых, буквально за несколько дней до премьеры сильно заболел, а во-вторых мы с Максимом Блиновым, который играл Ганю, не успели должным образом подготовиться. В итоге я впервые сыграл Мышкина через месяц после премьеры – и это было правильно, иначе был бы риск надорваться, выйти на сцену неподготовленным, неуверенным. Я рад, что всё сложилось именно так, что мы с Максимом «догоняли» своих однокурсников.
КД: Я всем троим Мышкиным задаю один вопрос: скажи, пожалуйста, у Григория Михайловича был индивидуальный подход к каждому из вас? Мне, например, кажется, что с тобой Григорий Михайлович сделал того самого «Идиота», которого мечтал поставить ещё в девяностые годы на Литейном…
МС: Да, у нас не было какого-то общего железного каркаса. Даже некоторые мизансцены могут несколько разниться в зависимости от того, кто играет Мышкина – я, Шумейко или Перевалов. Григорий Михайлович очень бережно относился ко всем нашим предложениям и пробам, никогда ни к чему не принуждал, не заставлял копировать друг друга. Он исходил из нашей природы: конечно, мы – три совершенно разных человека, разных психофизики, разных пластики, и каждый из нас делал роль по-своему. У каждого была своя «отправная точка»: я, например, начинал репетировать эту роль со сцены у Иволгиных, Женя Шумейко – со сцены у Епанчиных, Женя Перевалов – со сцены именин. То есть, мы разными путями приходили к общему результату. И даже продолжительность спектакля меняется в зависимости от исполнителя роли Мышкина: Женя Шумейко, например, играет чуть быстрее, а я – чуть медленнее. И, конечно, на выходе получаются три разных спектакля. Мы совершенно не соперничаем друг с другом, не стараемся друг друга переиграть, потому что понимаем, что все мы – разные. И каждый зритель, что особенно ценно, обязательно находит свой спектакль и своего Мышкина. Мне кажется, это очень здорово, это фантастика, и такое могло возникнуть только на курсе у Григория Михайловича. Кстати, как-то раз на зачёте мы «прогнали» подряд все три акта спектакля, и в каждом акте был разный Мышкин!
КД: А как после Мышкина возник Мишенька Бальзаминов? Это Григорий Михайлович увидел в тебе какое-то сходство с Вициным? Или, может быть, с самим собой – ведь Григорий Михайлович, как мы знаем, всегда ставит про себя?
МС: Изначально у меня и в мыслях не было, что я должен сыграть Мишеньку Бальзаминова! Когда на четвёртом курсе мы начали работу над этой пьесой, очень многие ребята пробовали роль Мишеньки – и пробовали хорошо, так что я даже и не пытался «покушаться» на чужое… Пока ко мне не подошёл Григорий Ефимович Серебряный (смеётся). Он сказал, что было бы неплохо и мне попробовать эту роль. Тогда я собрался, и мы с ребятами быстро сделали почти весь первый акт, до прихода Чебакова. У меня не было никакой мысли про Вицина и про фильм: я даже специально не стал этот фильм пересматривать и освежать в памяти, чтобы ненароком ничего не «украсть»… Насчёт сходства тоже не знаю: может быть, иногда какое-то сходство и проскальзывает, но у нас ни в коем случае не было задумки копировать или пародировать Вицина. Фильм с Вициным – совершенно гениальный, но мы пытались сделать историю про другое, без оглядки на прежние постановки и экранизации. Наш спектакль мы посвятили нашим родителям: Григорий Михайлович – своей маме, а я – своей. И мне кажется, что в этом спектакле есть очень много типажей из нашей жизни. Он очень правдивый, очень честный, о сумасшедшей, всепоглощающей материнской любви. И поэтому он – и про Григория Михайловича, и про меня, и про тебя, и про каждого зрителя. Ведь, признаться честно, в каждом из нас есть определённые черты главного героя.
КД: Абсолютно согласен. Мне тоже всегда казалось, что каждый мужчина – Бальзаминов. Скажи, а как ты думаешь, мы, Мишеньки, обречены? Ведь у пьесы Островского финал вполне себе жизнерадостный, а у спектакля – если не трагический, то, прямо скажем, открытый. Это Григорий Михайлович так захотел?
МС: Этот финал родился совершенно неожиданно. Мы долго не знали, как закончить наш спектакль, и в какой-то момент Григорий Михайлович придумал такой вот финал… И это решение окрасило весь спектакль в совершенно неожиданные тона: получилась не легкомысленная комедия, не водевиль, а очень жизненный и драматичный спектакль. Ведь в какой-то степени это действительно драма: невозможность осуществления своей мечты, стремление отгородиться от жестокой реальности… Можно, конечно, говорить о том, что «финал остался открытым», но мне кажется, что каждый для себя его закрывает. Просто каждый делает это по-своему: ты можешь увидеть безнадёжный финал, а твой сосед в зрительном зале – наоборот, обнадёживающий. И каждый по итогам выносит со спектакля что-то своё, есть возможность подумать, поспорить… Остаётся воздух! Поэтому мне кажется, что это «многоточие» в конце – очень важное и правильное. При этом наша «Женитьба Бальзаминова» – конечно же, законченная история.
КД: Ещё один спектакль Григория Михайловича, в котором оптимизм литературного источника несколько притупляется, – это, конечно, «Тартюф». Мне кажется, что это вообще единственный спектакль Козлова, в финале которого добро не побеждает зло… Скажи, как долго этот спектакль шёл к зрителю, и как за это время менялась концепция – и твоя роль вместе с ней?
МС: «Тартюф» – это важная для меня веха. Этот спектакль рождался очень мучительно и долго, не по щелчку пальцев. Наверное, года три мы шли к тому, что сегодня имеем: первые читки пьесы прошли ещё во время работы над «Днями Турбиных». А дальше у нас был долгий период самостоятельной работы. Это было золотое время: мы собирались в кафе, читали пьесу, обсуждали роли, делали первые показы… Казалось, что мы вернулись в студенческие годы! К сожалению, не все, кто начинал работать, дошли до премьеры: спектакль, можно сказать, самостоятельно «отобрал» артистов. Мне работать над «Тартюфом» было чуть легче, чем над «Идиотом» или «Женитьбой Бальзаминова», потому что я с самого начала знал, что моя роль – Тартюф, и мне не нужно никому ничего доказывать. Но самое интересное, что всё в итоге оказалось не так, как мы себе предполагали. Все наши первые этюды и не имели ничего общего с тем, что сейчас происходит на сцене в спектакле «Тартюф». И это очень здорово! И то, что спектакль так долго шёл к зрителю, тоже здорово: у нас была возможность несколько раз отложить работу над «Тартюфом», а потом вернуться к ней с новой энергией, с новыми силами, с новыми идеями. В какой-то момент нам даже стало казаться, что спектакль не «зажегся», не случился, что работа зашла в тупик… Но потом мы всё равно возвращались к этой истории, и в итоге звёзды сложились так, что спектакль родился. Работать над ним было очень здорово! Сначала у нас был довольно долгий период застольных речевых репетиций: мы часами сидели в кабинете у Григория Михайловича, читали и учили текст… Тогда мы и подумать не могли, что в конце концов возникнет этот вращающийся поворотный круг, который очень много чего решил в нашем спектакле, что возникнет замечательная, атмосферная сценография Николая Слободяника!.. В общем, мне кажется, это правильно, что спектакль так долго рождался. Он от этого только выиграл.
КД: Это Григорий Михайлович предложил сделать Тартюфа таким виртуозным музыкантом, эдаким Сержем Генсбуром? Кстати, мне твой Тартюф напомнил ещё одного персонажа, связанного с музыкой – капельмейстера Иоганнеса Крейслера из спектакля «P.S.»…
МС: Да, это была идея Григория Михайловича. Я поначалу думал, что наш Тартюф будет музыкантом скорее по духу, по мироощущению, и наглядно воплощать на сцене его «музыкальность» мы не будем. Но потом, уже на выпуске, возник Серж Генсбур, возникло это фортепиано, и атмосфера спектакля стала выстраиваться вокруг этого образа. Мне кажется, что такая находка опять-таки могла возникнуть только после такого долгого «брожения», такой долгой подготовки.
КД: И последний вопрос, очень короткий: Григорий Михайлович – он какой?
МС: Сразу хочется сказать «золотой» (смеётся). Знаешь, сейчас есть такое ощущение, что он – отец, но при этом – в чём-то ребёнок. И вот это сочетание строгости и детскости – самое волшебное, гармоничное и интересное, какое только может быть. Он может быть Карабасом-Барабасом – но в самом хорошем смысле этого слова. Когда мы учились в Академии, мы и подумать не могли, что всё так сложится, что у нас будет свой театр. И когда однажды, уже на пятом курсе, мы все собрались в кафе, был задан вопрос: готовы ли мы вместе двигаться дальше? И все были готовы – несмотря на то, что могли бы и разбежаться, разлететься по разным театрам. Это, конечно, была настоящая авантюра – и в результате театр действительно возник каким-то магическим образом. Наверное, Григорий Михайлович – ещё и волшебник.